Повесть. Посвящается отчиму Исмагилю Зарифовичу Мифтахутдинову.
Дома, в Ташкенте, запруженном дипломированными специалистами, три четверти которых были такими же выходцами из маленьких местечек, как и он сам, Фуат Мансурович иногда с некоторой жалостью думал о своих коллегах, не состоявшихся, по большому счету, инженерах, напрасно протирающих штаны отделах и бюро с раздутыми штатами. Как, наверное, они нужны у себя на родине, дома. Этим людям, которым масштабность противопоказана по их сути, в малом, наверное, удалось бы показать себя, ведь строится страна‑то из края в край, сейчас в любом раньше забытом богом уголке высится башенный кран. Но нет, привыкли, притерлись, так и живут по многим городам, иногда вспоминая с тоской о родных хуторах, аулах, кишлаках, селах, несостоявшиеся горожане и не очень грамотные инженеры. Найти себя — это не только привилегия юности, найти себя и выбрать дорогу — это дело всей жизни.
Утром, когда Фуат Мансурович проснулся, отчима уже не было: промкомбинат, в котором Исмагиль-абы трудился тридцать с лишним лет, начинал работать с половины восьмого.
Чай пили на веранде, с распахнутыми в огород окнами. Бекиров пребывал в добром расположении духа: хорошо выспался, ведь даже сны видел приятные, о давней, отроческой жизни в Мартуке. Минсафа-апа, заметившая это, приободрилась. Вчера на вокзале ей показалось, что Фуат приехал скорее по долгу, чем по велению сердца, но сейчас она видела, как радует сына солнышко, гулявшее в огороде, пыхтящий самовар, видела, какими соскучившимися глазами оглядывает он соседние дворы за ветхими, покосившимися плетнями, как тянется то и дело взглядом к жеребенку в казахском дворе Мустафы-ага. Сидели они долго, Минсафа-апа дважды подкладывала из совка жаркие угли, чтобы не кончалась песня надраенного до золотого блеска ведерного самовара. Казалось, не иссякнут сыновние расспросы и не будет конца ответам, потому как за каждым ответом чья‑то жизнь, так или иначе соприкасающаяся с давними днями.
Но разговор их прервали: пришли две казашки, которых мать тут же усадила за стол. И, обращаясь к той, что постарше, своей ровеснице, сказала, гордясь: вот, сын приехал в отпуск из Ташкента, большим инженером там работает… А та ответила, что помнит Фуата, мальчишкой с другими ребятами приходил к ним во двор поздравлять с гаитом, да жаль, не щедро она одаривала их, время трудное было, а сейчас милости просим, барана зарежем, гостем будете, слава Аллаху, жизнь и к нам повернулась лицом.
Фуат Мансурович, выпив с гостьями традиционную пиалу чая, оставил женщин за столом, а сам подался в поселок. Весь день не шло у него из головы, кто же эта аккуратная старушка в розовом бархатном жилетике и где, в какой стороне их усадьба, но так и не вспомнил, а ведь Мартук его детства был не так уж велик. За последние пять лет многое изменилось: грейдерная Украинская улица покрылась асфальтом, почти исчезли на ней старые дома, поотстроились заново, считай, все. Теперь новая мода пошла — обкладывать снаружи светлым кирпичом-сырцом саманные дома, и веселее, наряднее стала улица. Узнавая и не узнавая усадьбы, на чьи огороды не раз, бывало, в детстве совершал лихие налеты, а позже тайком рвал с грядок цветы для девчат, Бекиров незаметно прошел собес, старое, под ржавой крышей здание. На его памяти там всегда и отдел образования ютился в двух крошечных комнатах. «Ладно, успеется», — подумал Фуат Мансурович и не стал возвращаться. Проходя мимо промкомбината, Бекиров замедлил шаг, а потом и вовсе остановился, захваченный воспоминаниями. Перейдя через дорогу, присел с сигаретой на лавку в тени акаций у веселого, желтой окраски дома, обшитого деревом.
Промкомбинат, главный кормилец Мартука, долго, до тех пор, пока целина не набрала силу, оставался единственным работодателем поселка. Фуат Мансурович знал все ходы и выходы на его казавшейся тогда огромной территории, ведь не раз приходилось носить в сумерках отчиму скудный ужин, — случалось, Исмагиль-абы работал в цехе до глубокой ночи. А в праздники, умытый и по возможности принаряженный, бегал сюда на утренники. Какие елки, с какой выдумкой организованные, проводила артель (так в просторечии называли в селе промкомбинат)! А подарки, вручавшиеся «настоящим» Дедом Морозом (не издерганной теткой со списком), даже по нынешним меркам были истинно новогодними, ибо уже за два-три месяца готовились порадовать детей, и людей равнодушных, способных урвать на ребячьей радости, за версту не подпускали к светлому, праздничному.
Бекиров осматривал вытянувшиеся вверх на три-четыре этажа новые цеха комбината. Знал он, что на втором этаже вон того дальнего углового здания отчим стегает ватные одеяла, а уж какие они получаются мягкие, с красивым узором-строчкой, из ярких атласов и цветной хлопчатки, Фуат Мансурович вчера видел сам. Одеяла эти хорошо раскупались в районе, а теперь и облпотребсоюз присылает заявки, успевай только стегать, не залеживается работа Исмагиля-абы. Хотелось Бекирову подняться к отчиму в цех и, никуда не спеша, посидеть рядом, не мешая, а потом вместе через весь поселок вернуться домой, до обеда‑то отчиму уже недолго. Но Фуат Мансурович опять решил, что успеется, нечего торопиться. Вдруг пришло на ум, что стоило бы рассказать о волоките с пенсией отчима парторгу комбината; хоть дед и не партийный, зато ветеран комбината, а не перекати-поле, кому в трудовой книжке и штамп некуда ставить; к тому же фронтовик, орденоносец.
Бекиров встал и решительно направился к одноэтажному административному флигелю под цинковой крышей, единственному зданию, оставшемуся с прежних времен. Но комната парткома оказалась на замке, а спрашивать кого‑либо, по какому случаю закрыто, не хотелось, того и гляди до Исмагиля-абы дойдет: мол, сын парторга разыскивает.
Он уже выходил из узкого темного коридора на улицу, как вдруг его окликнули:
– Федя…
В Мартуке, где двор ко двору жили русские, немцы, украинцы, татары, казахи, а в давние времена, когда он учился в школе, еще и чеченцы, и ингуши, всех звали на русский лад, и никого это не обижало; вот только иногда, когда дело доходило до документов, случалась путаница: оказывалось, что какой‑нибудь Григорий, которого сызмальства все знали, как Гришку, по паспорту оказывался Гарифуллой. Он же для всех здесь был Федей, а отчим — Алексеем.
Обернувшись, Бекиров увидел тетю Катю, жившую раньше напротив, через дорогу. Сколько помнил Бекиров, она всегда работала в бухгалтерии артели. Тетя Катя обняла Фуата Мансуровича, и они вместе вышли во двор.
– Сколько ж лет я тебя не видела, Федя… Помню, с Севера в отпуск на новоселье приезжал, тогда я еще плясуньей и певуньей была. Добрый дом отгрохал Алексей, хвалился тогда, что женить тебя будет и внуки, мол, скоро по дому просторному побегут… Как, дети‑то есть?
– Есть один, парень.
– Мы ведь теперь получили казенную хату за железной дорогой, строиться нам, старикам, не по силам, да не по деньгам. А дети, как и ты, разлетелись, не чаще, чем тебя, вижу. Как матушка? Я ее ведь тоже года два не видела. Вот, господи, в одном селе, называется, живем… Раньше‑то я часто у вас бывала, сколько попила чаю из вашего самовара, бывало — с сахаром, бывало — «вприглядку», всяко довелось. Иное время и вспомнить страшно. Слава богу, что на старость и к нам жисть людская пришла. А ты зачем к нам в артель пожаловал, Федя?
– Да вот с парторгом хотел увидеться, только вы уж, тетя Катя, отцу об этом не говорите.
– А, понимаю. Характер у Алексея мужской, дважды не просит. Слышала, обиделся он на собес. Это хорошо, что ты вызвался помочь старику, такое уж время бумажное, к справке справка требуется, а иную справку добыть — в пояс кланяться нужно, просить, а твой отчим смолоду такой, умрет с голоду, но не унизится. Настрадалась, поди, родительница твоя от гордыни его? Правильно жил твой отчим и от других того же требовал, да люди‑то все разные. Ты помоги, помоги старику. А у меня давно все готово, все подсчитано, не шибко, правда, много получается, но все поскребла, трижды просчитала, ничего не упустила. Не было денежной работенки в наших краях, хоть надрывались порой, да ты и сам, чай, помнишь…
Бекиров промолчал.
– Я отдам тебе, Федя, папочку с документами на время, посмотри сам, просчитай, дело нехитрое. Дам, хоть и не положено, с Алексеем нас жизнь и смерть связывают. Ведь с ним уходил на службу, на его глазах погиб, им похоронен мой Дмитрий. Дружки неразлучные были.
Продолжение следует

 Начнем будущее вместе: Всемирный фестиваль молодёжи 2024 открыт!
Начнем будущее вместе: Всемирный фестиваль молодёжи 2024 открыт! Открытие Года семьи в России
Открытие Года семьи в России Завершился III Конгресс молодых ученых
Завершился III Конгресс молодых ученых На выставке-форуме «Россия» открылись павильоны «Дом молодёжи» и «Первые в России — стране возможностей»
На выставке-форуме «Россия» открылись павильоны «Дом молодёжи» и «Первые в России — стране возможностей» Международная выставка-форум «Россия» открылась в Москве
Международная выставка-форум «Россия» открылась в Москве Российское общество «Знание» запустило круглосуточную трансляцию Знание.ТВ
Российское общество «Знание» запустило круглосуточную трансляцию Знание.ТВ В Ульяновске завершился специальный открытый трек Премии «Студент года. Педагоги»
В Ульяновске завершился специальный открытый трек Премии «Студент года. Педагоги» В Мордовии наградили лауреатов второй народной премии «Время героев»
В Мордовии наградили лауреатов второй народной премии «Время героев» Завершился Международный фестиваль университетского спорта
Завершился Международный фестиваль университетского спорта 16 005 000 рублей на поддержку молодежных проектов
16 005 000 рублей на поддержку молодежных проектов В Крыму открыли Академию творческих индустрий «Меганом»
В Крыму открыли Академию творческих индустрий «Меганом» В Перми стартовал XXXI всероссийский фестиваль «Российская студенческая весна»
В Перми стартовал XXXI всероссийский фестиваль «Российская студенческая весна» 300 дней до начала «Игр Будущего»
300 дней до начала «Игр Будущего» В СПбГУ состоялась презентация молодежного сообщества ВЫЗОВ
В СПбГУ состоялась презентация молодежного сообщества ВЫЗОВ В Екатеринбурге открылся всероссийский фестиваль профориентации «Билет в будущее»
В Екатеринбурге открылся всероссийский фестиваль профориентации «Билет в будущее» В России запустился проект «Менделеевская карта»
В России запустился проект «Менделеевская карта» Президент России дал старт Году педагога и наставника
Президент России дал старт Году педагога и наставника Марафон «Наука в лицах» 2023
Марафон «Наука в лицах» 2023 Владимир Путин вручил премии молодым ученым
Владимир Путин вручил премии молодым ученым Встреча Президента с представителями общественных патриотических и молодёжных организаций
Встреча Президента с представителями общественных патриотических и молодёжных организаций В России учреждено детско-юношеское объединение «Сила – в знании!»
В России учреждено детско-юношеское объединение «Сила – в знании!» В России появится новое молодежное движение «Вызов»
В России появится новое молодежное движение «Вызов» Студенты встретились с Президентом России
Студенты встретились с Президентом России Всероссийский просветительский марафон 2023
Всероссийский просветительский марафон 2023 2023 год объявлен в России Годом педагога и наставника
2023 год объявлен в России Годом педагога и наставника Россия: XXI век. Потенциал молодых
Россия: XXI век. Потенциал молодых 18-23 декабря: трансляции Дом молодёжи-2022
18-23 декабря: трансляции Дом молодёжи-2022 12-17 декабря: трансляции Дом молодёжи-2022
12-17 декабря: трансляции Дом молодёжи-2022 Запущен сервис «Навигатор возможностей» для молодежи
Запущен сервис «Навигатор возможностей» для молодежи На перепутье. О преодолении кризиса
На перепутье. О преодолении кризиса Король постов и пабликов
Король постов и пабликов Я борюсь с ленью
Я борюсь с ленью Сериалы, как жвачка
Сериалы, как жвачка Разрешите пригласить Вас на прогулку по стихам…
Разрешите пригласить Вас на прогулку по стихам… Учитель-анимешник
Учитель-анимешник «Маяковский. Прогулка» — премьера в «Сфере»
«Маяковский. Прогулка» — премьера в «Сфере» Царство падальщиков
Царство падальщиков Новогодний ол инклюзив
Новогодний ол инклюзив

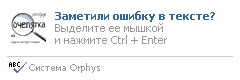








 Петр Алешкин
Петр Алешкин Татьяна Жарикова
Татьяна Жарикова Лилия Варюхина
Лилия Варюхина Рауль Мир-Хайдаров
Рауль Мир-Хайдаров Антон Гагарин
Антон Гагарин Владимир Путин
Владимир Путин Тимур Боровков
Тимур Боровков