Владимир ЯРАНЦЕВ
СЛУЖИТЬ, ЛЮБЯ
В. Казаков. Асфальт и тени.
Чтобы летать на небо, надо твердо стоять на земле. Чтобы писать о «небесных» чувствах, надо быть очень земным. В общем, без «физики» нет «лирики», а мира без войны — таков закон подлинного творчества. Закон без формул и чисел, но от того не менее точный и верный.
В. Казаков как раз такой обоюдный писатель, который пишет о жизни, не забывая о смерти. И поэтому, по все той же нелогичной логике искусства все рассказы и повести писателя об одном — о любви. Для этого автору небольшой книги «Асфальт и тени» не нужно много слов, больших и путаных сюжетов, лишних фактов и аргументов. Ему хватает мини-рассказа, балансирующего на грани лирической миниатюры, притчи и даже шаржа с амбициозными, но ранимыми героями. Часто писателю, описывает ли он будни отставного чиновника, пленного солдата чеченской войны, влюбленного мечтателя, достаточно одного случая, происшествия, факта или намека на них, чтобы сразу взмыть в «небо», попутно выстраивая концепцию жизни.
Сначала о чиновнике — первом по значимости, весу, частоте упоминания в коллекции героев В. Казакова В рассказе «Овсяная каша» именно это блюдо, принимаемое старослужащим московским чиновником, утром перед выходом на работу, вырастает в символ принадлежности к клану избранных. Происходит это тогда, когда в первый день выхода на пенсию он вдруг чувствует, что сия каша — не больше чем ритуал, дежурное блюдо, оказавшееся на поверку весьма неаппетитным. Жизнь Ивана Макаровича Христолапова, который до сих пор считал себя «надежным и верным винтиком бюрократической машины», достигший «верха служебного продвижения» — Старой Площади (местонахождение ЦК КПСС), так сказать, с точки зрения каши, была не что иное, как пресная овсянка. Казалось бы, героя ждет разочарование, а может, и отчаяние (легко ли перечеркнуть то, что составляло смысл жизни?). Но он не унывает, так как «до отправления дачной электрички оставалось почти пятьдесят минут», а значит, жизнь продолжается. Или начинается заново? Наверное, новоиспеченному пенсионеру еще только предстоит понять, религией или овсяной кашей была для него его работа? Ведь он по-прежнему не верит брюзжанию жены по поводу сословия «карьеристов и негодяев».
Впрочем, писатель чужд идеализации чиновничества: слишком уж одиозным оно было на Руси испокон веку. Взяточничество — вот тот синоним, с которым обычно рифмовалось слово «чиновник». Показывая сложную душевную борьбу в сознании Павла Мироновича Кочергина, героя рассказа «Искушение столоначальника», В. Казаков отчасти реабилитирует профессию (к которой, кстати, сам принадлежит: он полпред президента сначала в Красноярском крае, а затем в Кемеровской области). А с другой стороны, честно, как причастный к чиновничеству, признается в той опасности, которой чревата сия глубоко не русская, занесенная Петром I от «немцев» работа. Уже заслужив репутацию честного кабинетного служаки, герой рассказа однажды не выдерживает искушения и сует в ящик своего письменного стола оставленный посетителем конверт, принимая его за взятку. Последующее поведение российского «столоначальника» определяется внутренним диалогом двух Корчагиных, «вечных спорщиков» — «честного» и «наглого», где, кажется, вот-вот верх возьмет второй: «Да ты что, полный дурак? Иди хоть посмотри, что сунули… Ишачу как проклятый за гроши, а все гребут под себя, квартиры покупают, дачи строят, на Кипрах да Канарах животы греют…» В ответ на возражения «честного» («А как же понятия чести, стыда?»), «наглый» еще более наглеет: «А ты не растлевайся! Ты на старость копи, чтобы тем же детям обузой не быть…» Но автор спасает от бесчестия Кочергина анекдотической развязкой: выясняется, что конверт был не со взяткой, а с документами, и был просто забыт. В довершение, Корчагин, словно в насмешку, получает доллароподобные билеты лотереи «Искушение».
Рассказы В. Казакова на чиновничью тематику выглядят наиболее «реалистичными» в книге, полной лирики и загадок любви. Они, как правило, имеют четкий сюжет и тот психологический контекст, который заставляет вспомнить ХIХ век, «объяснявший» человека не только его внутренней, но и «внешней» жизнью — политикой, экономикой, просто «средой», наконец. Как это и происходит в рассказах «Наместник грома», «Губернское собрание», «Первый день сурка», «Фанат дружбы». Нечистоплотность и ритуальное казнокрадство, превращение большей части современных чиновников в героев криминальных фельетонов объясняются здесь теми условиями, в которые он поставлен в годы ельцинских «реформ». Так, в рассказе «Фанат дружбы» «партийный генерал», то есть аппаратчик высокого полета Петр Васильевич с легкостью клюет на «щекотливое» предложение некоего Альберта Ноевича, клерка промышленно-финансовой группы, уступить «две гос. должности в неких небедных регионах». При этом оба стараются скрыть свои нечистые помыслы за словесную шелуху, шифруются, следуя иезуитскому этикету аппаратной дипломатии. Но оба прекрасно понимают, что речь идет об использовании должности в корыстных целях. Иначе говоря, о продаже души золотому тельцу: неслучайно у покупателя библейское отчество — Ноевич.
Можно ли спастись от духовной коррупции на войне, где лукавить, кажется, невозможно: вот он враг, бей его, проявляй героизм, защищай отечество. Но, оказывается, что современная война еще более бесчестна и коррумпирована, чем аппаратные торги. Рассказы «Покойник» и «Пятьдесят баксов» (опубликованы в «Сибирских огнях», 2002, № 6) — впечатляющие свидетельства того, как война уродует не готовых к звериной ожесточенности врага, его коварству и лжи. Альберт Гузов, герой «Покойника», испытал на себе все прелести участи «кавказского пленника»: побои, издевательства, унижения. Он с легкостью идет на предательство, оправдывая этот незначительный факт униженностью в первую очередь чеченцев: «Чехи нас бьют, а что нас не бить, когда мы им такого натворили, что за полвека не разгребешь». Едва ли можно честно, лоб в лоб, воевать, имея такой комплекс неполноценности с обеих сторон. И те и другие в этой войне только бесчестят себя: одни тем, что, не хуже чиновника-взяточника, дают себя подкупить «мировому империализму» за пресловутые баксы, а потом ими же платят наемникам и предателям, а другие тем, что разрешают себе быть подкупленными, скатываясь в пучину трусости и деградации. Впрочем, убивает своих и принимает ислам Алик-Ахмед уже будучи дважды «покойником»: сначала духовно «зарезал» себя сам, потом его «похоронило» государство, прислав извещение родителям. Так есть ли место героизму там, где воюют «покойники», и есть ли что-нибудь омерзительнее войны, особенно во времена господства денег, да еще «зеленых»?
В другом рассказе, так и названном «Пятьдесят баксов» лейтенант Дмитрий Брас совсем не трус и не предатель. Наоборот, он бесстрашен и решителен, да к тому же любитель подраться. Один только недостаток перечеркивает его образ героя: нежелание служить (командовать солдатами) всего за пятьдесят долларов в месяц. Ибо ценит он себя куда больше, чем родина — в «две с половиной, а то и три штуки зеленых», многозначительно сравнивая эту зарплату с чиновничье-министерской. Но стоило молчаливому лейтенанту произнести эту роковую фразу, озвучив заветное «зеленое» желание, как тут же его настигает пуля снайпера. «Всего за полтинник баксов, бля…» — такой была «последняя вспышка в его угасающем сознании». Оба рассказа, написанные в жесткой, почти бесстрастной манере военных хроник, являются приговором не героям (они себя не столько судят, сколько заживо хоронят) и даже не войне (встретиться в открытую с врагом благороднее и честнее), а подлости, которую так удобно прикрывать крупными суммами в долларах. Не зря Алик-Ахмед так радуется «заработанным» (на расстреле своих!) иудиным деньгам: «У себя в колхозе он столько бы и за год не заработал». Не зря и Дмитрий Брас ненавидит этих «клоунов» с автоматами, набранных военкоматами из «тех, кто не успел разбежаться», и кого он называет не солдатами, а «образинами позорными» — они ведь воюют не за деньги, а по глупости.
Любовь к деньгам, словно говорит В. Казаков, всегда приводит к смерти, не физической, так к духовной. Настоящая любовь бескорыстна и воздушна, так как тянет или в небеса, или в грезы. Неожидан и удивителен этот резкий переход в книге писателя от будней ратных и аппаратных к лирике нежных чувств. Не всегда это выглядит здесь естественно и без приторности. Иногда сентиментальность, чуть ли не 18 века нет-нет, да и поразит обоняние своим сладковатым душком. Так, с особенной осторожностью, боясь срывов автора в подобные «сантименты», читаешь рассказ «Драпежная птушка» («Хищная птица», в переводе с белорусского). Здесь юный Костусь, где-то в полесских чащобах, встречает необычную девушку по имени Полеся, говорящую на древнебелорусском языке. Вместе они отплывают куда-то «в туман», и начинаются чудеса. Герою кажется, что за бортом лодки струится не вода, а «само время, которое в белесом мареве жило по своим, непонятным для людей законам». Любовь двух, очарованных безвременной любовью, столь же чужда прозаической речи, как вода не похожа на туман: «Как и все люди с неба, я пришла, чтобы ты продлил меня в веках…Я былью земною была и небылью звездной, в мечтах мы встречались с тобой, мой любимый». Впрочем, подобно А. Куприну, рядом с Олесей создавшем и чувственную Суламифь, В. Казаков вносит черточки эротизма в отношения Костуся и Полеси: «Космос двух противоположных и взаимодополняющих начал, причудливо переплетая тела, сильнее спрессовывал их друг в друга».
Надо сказать, что в иных рассказах эта нотка начинает звучать громче, показывая неподдельный интерес автора к этой вполне земной ипостаси любви. Так, в рассказе «Осенняя скамейка» замминистра Виктор Анатольевич Рестецкий не прочь «флиртануть с какой-нибудь длинноногой оторвочкой из топ-моделей». Да и с женой у него, пятидесятичетырехлетнего, отношения далеко не платонические, и между ними частенько случаются эротические «неожиданности» где-нибудь на кухне. И вот, благодаря случаю, его вдруг горячо взволновало «молодое упругое тело формирующейся женщины» — дочери друга, которую надо выручать из беды. И он ее выручил, получив взамен влюбленный девичий взгляд и еще сильнее начиная «бояться влюбиться» в собственную жену. Не потому ли, что не пришлось бы уже флиртовать с «оторвочками»? На этот вопрос вряд ли ответит и сам автор, настолько тесно психология благополучного чиновника переплетена тут с эротическими фантазиями, армейской дружбой (помогает Вике как дочери боевого товарища) и суровой криминальной действительностью (Рестецкий поставил точку в деле Вики на дружеской бандитской «стрелке»).
В этом смысле данный рассказ, как в зеркале, отразил особенности прозы В. Казакова — описательно и психологически точной, умеющей заострить интригу, экономя при этом в художественных средствах. Но если на малом поле мини-рассказа автор пытается скрестить тяглового «коня» откровенной, подчас разоблачительной тематики и трепетную «лань» столь же откровенной «лирики», то не всегда это выходит гармонично и тонко, как в предыдущем рассказе. Не все гладко у В. Казакова и с любовными «узлами», которые он вяжет подчас весьма замысловато. Так, рассказ «Сладкий срам» собрал в одной компании странного деда Тимоху с «неразгаданной тайной в глазах», его любовницу 17-летнюю Марину-Махоньку и двух друзей, один из которых внук деда — Леонид. Всех троих связывает банка с «золотишком», доставшаяся деду от прадедов, а внуку — от деда за женитьбу на забеременевшей от него Марине. Деда терзает «срам и грех», внука — стыд за «развратного» деда, друга внука, рассказчика истории — загадка этой свадьбы. «Леонид, вы меня пугаете», — только и может он сказать, слушая друга и пытаясь ему помочь. А что же Марина, сбежавшая и от родителей и затем от деда? Не сбежит ли она и от Леньки, раз уж привыкла к «сладкому сраму»? Кажется, что рассказ больше об этих любовных бегах, чем об обстоятельствах, сведших всех троих воедино. И это снижает доверие к подлинности истории, которая могла произойти где-нибудь в дореволюционной провинции, в рассказах И. Бунина или М. Арцыбашева, чем в постперестроечной России, забывшей само слово «срам».
Больше похожа на правду повесть «Межлизень», где за неуклюжими псевдонимами скрываются фигуранты истории о вознесении и падении генерала Лебедя — секретаря Совета Безопасности в 1996 году. Темы чиновничьих игр, армейского подхода к проблемам мирной жизни, а также любви и блуда на министерских паркетах здесь развертываются на куда большем пространстве повести и должны были сцементироваться вокруг главного героя. Но слишком уж Плавский (псевдоним Лебедя), с какого боку ни заходи, противоречивая личность, чтобы повесть удалась. К сожалению, генерал больше умеет говорить, чем продуманно действовать. «Перед ним (одним из подчиненных генерала. —В.Я) медленно раскручивалось невидимое колесо взаимопроникновения энергий скрытого смысла. Древнейшая и пугающая магия постепенно обретала силу мистерии»… И далее следуют восторги по поводу «ни с чем не сравнимом чувстве сопереживания» и «дикой энергии сопричастности». И такого-то богатыря биоэнергетики свалило какое-то убогое чиновничье закулисье, «серые кардиналы» из Кремля! Это ведь против них и их агента в юбке — Инги, укладывающей всех молодых и перспективных в постель, и направлена эта повесть с названием, производным от типично чиновничьего глагола «лизать». В паре с рассказом «Бездомная душа» о смерти все того же генерала эта повесть предстает как сплошное недоумение перед загадкой русской души в мундире: «Не разгадали его вовремя и те, чье сегодня право управлять этой землей. Рыка его напускного боялись, а он кротким был. Жену любил, и баб всегда себе под нее подбирал и возрастом, и фигурой…» По сути, этот рассказ с диалогом Души и Смерти об осужденном на бездомность генерале — философский комментарий к повести.
Тяга к философствованию и жанру афоризма, требующего концентрации мысли и слова, автор реализует в своих «Абибоках» (белорусский аналог «затесей» или «камешков на ладони»). В них он, как бы заново повторяя заветные мысли своих рассказов, выкладывает мозаику своей философии служивого человека с ранимой душой лирика. Все это вполне афористически и образно передается одной крылатой фразой, рожденной в недрах аппарата: «Чиновники — пыль на сапогах власти, но чтобы ее смахнуть надо нагнуться». И даже любовь, при всей невыразимости ее сути, выступает у В. Казакова как нечто близкое служению родине и отечеству: «Надо беречь то, что отпущено судьбой, растить детей, ждать внуков и длиться в веках». В этом, на наш взгляд, и заключается своеобразие творчества В. Казакова, который пишет о жизни так же интересно, просто и значительно, как и любит ее и служит ей.
Актуальные новости
Новости
Творчество
20 Мар, 14:09
19 Фев, 17:42
23 Янв, 18:57
07 Дек, 12:36
04 Дек, 22:25
05 Ноя, 12:48
04 Ноя, 18:00
28 Окт, 10:17
27 Окт, 10:19
17 Сен, 14:24
08 Сен, 21:52
21 Авг, 15:35
15 Авг, 17:55

 Начнем будущее вместе: Всемирный фестиваль молодёжи 2024 открыт!
Начнем будущее вместе: Всемирный фестиваль молодёжи 2024 открыт! Открытие Года семьи в России
Открытие Года семьи в России Завершился III Конгресс молодых ученых
Завершился III Конгресс молодых ученых На выставке-форуме «Россия» открылись павильоны «Дом молодёжи» и «Первые в России — стране возможностей»
На выставке-форуме «Россия» открылись павильоны «Дом молодёжи» и «Первые в России — стране возможностей» Международная выставка-форум «Россия» открылась в Москве
Международная выставка-форум «Россия» открылась в Москве Российское общество «Знание» запустило круглосуточную трансляцию Знание.ТВ
Российское общество «Знание» запустило круглосуточную трансляцию Знание.ТВ В Ульяновске завершился специальный открытый трек Премии «Студент года. Педагоги»
В Ульяновске завершился специальный открытый трек Премии «Студент года. Педагоги» В Мордовии наградили лауреатов второй народной премии «Время героев»
В Мордовии наградили лауреатов второй народной премии «Время героев» Завершился Международный фестиваль университетского спорта
Завершился Международный фестиваль университетского спорта 16 005 000 рублей на поддержку молодежных проектов
16 005 000 рублей на поддержку молодежных проектов В Крыму открыли Академию творческих индустрий «Меганом»
В Крыму открыли Академию творческих индустрий «Меганом» В Перми стартовал XXXI всероссийский фестиваль «Российская студенческая весна»
В Перми стартовал XXXI всероссийский фестиваль «Российская студенческая весна» 300 дней до начала «Игр Будущего»
300 дней до начала «Игр Будущего» В СПбГУ состоялась презентация молодежного сообщества ВЫЗОВ
В СПбГУ состоялась презентация молодежного сообщества ВЫЗОВ В Екатеринбурге открылся всероссийский фестиваль профориентации «Билет в будущее»
В Екатеринбурге открылся всероссийский фестиваль профориентации «Билет в будущее» В России запустился проект «Менделеевская карта»
В России запустился проект «Менделеевская карта» Президент России дал старт Году педагога и наставника
Президент России дал старт Году педагога и наставника Марафон «Наука в лицах» 2023
Марафон «Наука в лицах» 2023 Владимир Путин вручил премии молодым ученым
Владимир Путин вручил премии молодым ученым Встреча Президента с представителями общественных патриотических и молодёжных организаций
Встреча Президента с представителями общественных патриотических и молодёжных организаций В России учреждено детско-юношеское объединение «Сила – в знании!»
В России учреждено детско-юношеское объединение «Сила – в знании!» В России появится новое молодежное движение «Вызов»
В России появится новое молодежное движение «Вызов» Студенты встретились с Президентом России
Студенты встретились с Президентом России Всероссийский просветительский марафон 2023
Всероссийский просветительский марафон 2023 2023 год объявлен в России Годом педагога и наставника
2023 год объявлен в России Годом педагога и наставника Россия: XXI век. Потенциал молодых
Россия: XXI век. Потенциал молодых 18-23 декабря: трансляции Дом молодёжи-2022
18-23 декабря: трансляции Дом молодёжи-2022 12-17 декабря: трансляции Дом молодёжи-2022
12-17 декабря: трансляции Дом молодёжи-2022 Запущен сервис «Навигатор возможностей» для молодежи
Запущен сервис «Навигатор возможностей» для молодежи На перепутье. О преодолении кризиса
На перепутье. О преодолении кризиса Король постов и пабликов
Король постов и пабликов Я борюсь с ленью
Я борюсь с ленью Сериалы, как жвачка
Сериалы, как жвачка Разрешите пригласить Вас на прогулку по стихам…
Разрешите пригласить Вас на прогулку по стихам… Учитель-анимешник
Учитель-анимешник «Маяковский. Прогулка» — премьера в «Сфере»
«Маяковский. Прогулка» — премьера в «Сфере» Царство падальщиков
Царство падальщиков Новогодний ол инклюзив
Новогодний ол инклюзив
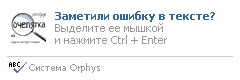








 Петр Алешкин
Петр Алешкин Татьяна Жарикова
Татьяна Жарикова Лилия Варюхина
Лилия Варюхина Рауль Мир-Хайдаров
Рауль Мир-Хайдаров Антон Гагарин
Антон Гагарин Владимир Путин
Владимир Путин Тимур Боровков
Тимур Боровков